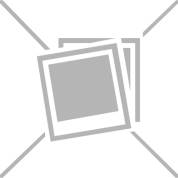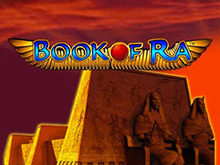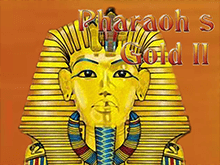играть в вулкане на реальные деньги
Один лишь он знает стародавнюю тайну засола редкостной соловецкой сельди. Хоронили в лесу, около земляной кельи, и нас никого туда не пустили, даже священников, но весть о смерти схимника взволновала многих в кремле. В его тихом сиянии сорок дней и сорок ночей, сменяясь непрерывной чередой, последние иноки умершей обители читали по старой, закапанной воском книге слова боговдохновенного поэта и царя, полные муки покаянные крики истомленного духа, ликующие напевы его веры в грядущее Преображение… Двадцать два соловецких каторжника в тот час молений о погибших были с тобою, Русь, в бесконечной жизни твоей… До того это исключительное произведение Толстого читали немногие, и вряд ли сам Лев Николаевич мог предположить, что его эпопея-хроника станет в грядущих годах подлинной бомбой революции воспрянувшего Духа в умах и сердцах русской молодежи. Нежным цветением отнятой у весны черемухи дохнул первый поцелуй Наташи… Я выпускал и редактировал первую и самую крупную из выходивших на Северном Кавказе свободных русских газет (цензура немцев касалась лишь военного материала). Статей приносили мало, но много писем, вопросов, требований… В наскоро оборудованных церквах говели, каялись, исповедывались и причащались. В большинстве спрашивали, в некоторых тоже исповедывались. – Ну, уж с этими вопросами вы лучше к Семену Степановичу обращайтесь, – отмахнулся я, назвав имя коллеги, читавшего европейскую литературу. – Обращалась, – ответила Таня уныло, – он нам даже внекурсовой доклад сделал о Гамлете… О Тане он сказал лишь, что в момент крещения “глаза ее светились, и по лицу текли слезы”…
Другой такой в мире нет: жирная, нежная, во рту тает, не уступит ни белорыбице, ни осетровой тешке. О ней говорили, ощупью искали в ней какого-то сокровенного смысла, тайного знамения. Кто стоит здесь, в лесной храмине, у каменного креста на неостывшей крови? С тобой, Мученик-царь, принявший вины и грехи наши на душу свою! Спустя несколько лет по выходе из Соловецкого концлагеря, я читал историю русской литературы в советских вузах. Непонятное, еще не осознанное, но влекущее, торжественное таинство духовного преображения призывало к себе со смертного одра князя Андрея… Окончив чтение и разбор “Войны и мира”, я задал контрольную тему: юношам “Формы героизма по “Война и мир”; девушкам – “Формы любви по “Война и мир”. Иногда не желали показывать свои лица, приносили, оставляли у входа и скрывались. Эти слова вряд ли были только риторическим украшением заметки. Рассказывать о них не люблю, а вот с вами поговорить есть охота.
В древние времена обоз такой сельди по первопутку из Кеми в Москву уходил – к самому царю. Подлили из склянницы с великим бережением, она и снова засияла перед лицом Господа… В этих разговорах вспомнили о другой смерти, о мученической кончине несчастного Императора. Расстарались и достали из музея не раз испытанным способом, при помощи “короля взломщиков” Бедрута; потом тем же способом вернули всё взятое на место, в витрину. Конечно, “Голгофа” – полянка за Святым озером, в лесной глуши, у каменного креста на крови. Вышли из кремля все порознь и, сделав большие обходы, к закату собрались на “Голгофе”. Живущие или тени живших, ушедших в молчание, в тайну небытия? …Это стояли не люди, а их воспоминания о самих себе, память о том, что оторвано с кровью и мясом. Тот, кто представляет себе эту работу хотя бы отдаленно напоминающей, не говорю уж о Московском Императорском университете даже пресловутой эпохи министерства Кассо, но и канувших в вечность времен Магницкого, горько ошибется. Сначала студенты были озадачены, даже ошеломлены такой необычной для советской школы, еще недавно немыслимой “постановкой вопроса”. потом, проверяя тетради, я впервые за всё подсоветское время услышал подлинные, звонкие, смелые и радостные голоса юности, прочел слова, найденные в сердцах, а не в передовицах “Комсомольской правды”. Требовали ответов на самые разнообразные вопросы, начиная от бытия Божьего и кончая правилами хорошего тона (“стыдно ведь перед немцами, а мы не знаем”… Чаще всего в грехе вынужденной лжи и другим и себе самому. Я помню синие звезды вопрошающих глаз, устремленные на меня в коридоре института. И его, и Эйхманса, и Баринова, и Райву, что за бабниками гонялся.
Жаловал Тишайший монастырскую рыбицу и вкушал ее на Филипповки, а к Великому посту она уже вкус свой теряла, черствела. – Засмердел он, молчальник, али навроде мошшей вышел? Вспомнил первым старый-престарый генерал Кострицин, с конца прошлого века уже живший на пенсии не то в Чухломе, не то в Судогде, откуда и взяли его на Соловки за неимением там иной золотопогонной контры. Всего за месяц до этого на Соловки прибыла значительная по числу группа бывших царскосельских лицеистов. Вместо свечей мичман Г-й принес с верфи просмоленной бечевы от морского каната. В памяти одно – свое, отдельное, личное, особое для каждого; другое – над ним стоящее, общее для всех, неизменное, сверхличное: Россия, Русь, Великая, Могучая, Единая во множестве племен своих – ныне поверженная, кровоточащая, многострадальная. Отец Никодим почти шепчет слова молитв, но каждое слово его звучит в ушах, в сердцах собравшихся на поминовение души Первого среди сонма страстотерпцев распятой России, мучеников сущих и грядущих принять свой венец… Ладон, дали, обступившие церковь-поляну полные тайны соловецкие ели. Свободная человеческая мысль при Магницком была скована. Но она не была подменена обязательной, преподанной лектору свыше ложью, целой системой извращений, ловких, детально-продуманных подтасовок, сложных, подчиненных единому плану построений. * * * Однажды, когда я проходил по коридору института, меня догнал студент и молча пошел рядом, выжидая выхода из обычной во время перерыва толкучки. И во всех этих письмах, вопросах, исповедях светилось вновь вспыхнувшее бледное пламя лампады последнего соловецкого схимника, пробудившейся и оживающей совести – неугасимой лампады Духа. Да, они могли светиться отблесками Неугасимой Лампады.
Об этих обозах в “кладовых листах” не раз писано, а в “рухольных” – ответные царские дары мечены: златотканные ризы парчевые, золотые панагии и чаши, убранные самоцветами, заморского веницейского мастерства, шелковые платы, покровы и плащаницы, вышитые нежными перстами дочерей царских, Московских великих княжен. – поинтересовался один из нашей артели крестьянин-повстанец. – И нам не мешало бы панихидку по Государе Императоре отслужить. Они были сосланы на большие сроки именно за такую же панихиду по Государе, отслуженную в Петрограде. Не нашего ума дело, а вы вот что, голубки, расстарайтесь мне крест да епитрахиль достать подостойнее. Отец Никодим, иерей в рубище и на одну лишь ночь вырванной из плена епитрахили, поет беззвучно святые русские песнопения, но все мы слышим разливы невидимого, неведомого хора, все мы вторим ему в своих душах. Отец Никодим кадит к древнему каменному кресту, триста лет простоявшему на могиле мучеников за русскую древнюю веру… Самое честное, что может делать советский лектор – четко и сухо излагать допущенные цензурой факты и относящиеся к ним положения советской марксистской критики, не крича порожденного социалистической подлостью ура и не раболепствуя перед фетишами гнуснейшего из времен. Мысль студента не только замкнута, как это пытался, но не мог сделать Магницкий, она направлена по определенному пути. Так бывало часто, когда предвиделся внеочередной контроль райкома комсомола или спецотдела НКВД. На этот раз дело обстояло лучше: стихи оказались довольно грамотным технически и глубоко искренним подражанием Лермонтову. Мудрость углубления в себя, отрешения от окружающей гнуси? * * * В областном южном городе, где я жил, ко времени прихода немцев осталась только одна церковь, кладбищенская, за полотном железной дороги. – В программе их нет, а для работы вне программы нет времени у меня, – ответил я тоже почти со злобой. Поручика Давиденко я встретил впервые в мае 1943 г.
Кое-что из этого и теперь осталось, стоит за стеклом в бывших палатах архимандрита – теперь антирелигиозном музее. День-то кончины – вот он, через недельку, – сказал он, думая, вероятно, и о своей близкой смерти, которая пришла к нему в этом же году. Шесть или семь инициаторов поминовения были расстреляны. Моя-то сами знаете какая, для такого случая она как бы и неуважительная. – Николая, Алексея, Александры, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и всех, иже с ними живот свой за Тя. В этих случаях студенты всегда старались предупредить меня брошенной на ходу фразой. – Прочтите, когда у вас будет время, – сунул он мне толстую тетрадь. Это тоже бывало часто и являлось очень тяжелым дополнением к и без того трудной, напряженной, глубоко тягостной, полной компромиссов с совестью работе. Эпиграфом к ним стояла его строчка: “Я мало жил, я жил в плену”… Восемнадцатилетнему, по праву своих сил рвущемуся в жизнь? В нее приходили лишь те, кому или нечего уже было терять или по возрасту ничего не угрожало. – Думаешь, не сказал бы иным студентам.., а не вам, диаматовым комсомольцам! Второй раз я говорил с нею в местном театре на представлении “Гамлета”. в Дабендорфе, близ Берлина, в только что организованном центральном лагере Русской Освободительной Армии. Я и в одной партии с вами тогда прибыл, а выехал оттуда пораньше. В ИРО-вских лагерях, да и в самой стране советов трудно встретить русского человека, не побывавшего в концлагере или тюрьме, но еще труднее встретить там, а здесь и подавно, своего “годка-первопризывника”…
Там же и раки с мощами святителей Зосима и Германа. Нынче утречком пришли, вступили в затвор, а он, голубчик, лежит перед образом, лбом в землю уперся… Но желание помолиться о душе царственного мученика здесь, на острове мучеников, на Голгофе распятой России, было особенно сильно. Их много, но большинство не рискнет, а за теми, кто нес свою службу Христову пламенно и страстно, за теми – слежка. Мятежная тоска Лермонтова, томление одиночества, порывы к неведомым далям, скорбные предчувствия, нежная грусть созерцания – всё это было воспринято, прочувствовано автором глубоко, юношески пламенно, чутко, и не его вина в том, что мощный гений ушедшего века подчинил своим формам душу подсоветского юноши. Что мог я тогда ответить крику, воплю этой души, рвавшейся из плена? Да и мог ли я говорить прямо, откровенно, без страха за себя и за него? Студент поднял на меня свои лучистые, голубые, как васильки, широко открытые глаза, потом опустил их на тетрадь. В течение первых двух недель по приходе немцев в городе открылось четыре церкви. Спектакль был средне-провинциальный, сам Гамлет – очень плох, а Офелию играла молодая свежая артистка. В одном из последних антрактов Таня подошла ко мне и снова посыпались ее требовательные, упорные “почему”. Он сидел в кружке офицеров и с неподражаемым комизмом рассказывал, вернее, импровизировал анекдотический рассказ о допросе армянина его бывшим приятелем – следователем НКВД.
Открыты у них лишь главы да персты нетленные, а Савватий закрыт – нетленен весь. Других таких по всей Руси не было: не в молитве, а в труде спасались. Ладья же, на которой святители на остров прибыли, в ту же ночь волею Господней сама назад к матерому берегу уплыла и там на причал стала. Должно земной поклон клал и в тот самый раз Господь его душеньку принял. Группа офицерской молодежи, строго соблюдая тайну, принялась за подготовку. Предлагали и обсуждали кандидатуры, спорили, но все согласились на “Утешительном попе” – отце Никодиме: он-то не откажется. Я решил не писать пустых слов, а, выбрав подходящий момент, поговорить с юным поэтом. Самым честным было сказать: – Никогда и никому не говорите того, что сказали сейчас. К концу месяца во вновь образованной епархии было уже 16 церковных общин. Резерв их, таившийся за бухгалтерскими конторками, у прилавков хлебных ларьков и даже в ассенизационном обозе, был исчерпан. В самой теме – часто применявшейся к мужчинам примитивной, но очень мучительной пытке – вряд ли содержалась хоть капля, юмора, но форма, в которую был облечен рассказ, обороты речи, психологические штрихи были насыщены таким искристым неподдельным комизмом, что слушатели хохотали до слез. Я-то на вас не один раз смотрел, а вы на меня, пожалуй, ни разу… Много разных профессий было у меня в ломаной, ухабистой советской жизни, и сцена не раз выручала.
Обычай этот древний, от самих святителей повелся, когда они первый храм Господен на Соловках воздвигали из валунов и палого бурелома. Таково было дано знамение: святителям на острове оставаться и далее на Полночь не идти, новым же трудникам во имя Господне с Руси на той ладье прибывать и трудом души свои оберегать от бесовского мирского искушения и напастей. Сладостно это, утешно, и честь старцу великая, значит, венец райский заслужил… Сухарики-то старые непоедены и масло в лампаде всё выгорело… Провести его в лес тоже легче, он ведь не в шестой роте живет, а с лесорубами. Он был хорошим студентом, явно стремился не к получению диплома, а к знаниям, прочитывал не только требуемое программой, но старался, поскольку это было возможно, взять шире, глубже, даже прорваться в запретное. Мы случайно встретились в библиотеке и остались одни в ее задней комнате. – Поймите меня, Борис Николаевич, не советский я человек, не советский, – схватил меня за руку студент, – тяжело мне, ненавижу я всё, дышать нечем и… Все эти приходы возникали “снизу”: собиралась группа верующих, искали и находили священника, очищали обращенный в склад или клуб храм, украшали его сохраненными на чердаках и в подвалах иконами, освящали, подбирали хор… Приспосабливали под храмы опустевшие клубы и залы учреждений. Она говорила быстро и жадно, именно жадно хотела ответов. В авторе-рассказчике ясно чувствовался большой талант, вернее, два: писателя и актера. Таков был внешний, показной фасад незаурядной натуры поручика Николая Сергеевича Давиденко.
Храм тот был во славу святого Преображения Господня учрежден и стоял он на том самом месте, где теперь Преображенского собора алтарь. Иеромонах Никон, что монастырским гончарным заводом раньше управлял, рассказывал, как он с подначальными трудниками и к службе Божией только раз в году поспевал, на Светлое Христово Воскресение. Репортеры нашей молодой газеты бывали на службах и давали о них заметки и очерки. В общинах накоплялись полярности – старость и юность, средний возраст составлял меньшинство. Некоторых я знал поверхностно по институту, одну из них ближе. Семья Тани не была религиозной, и она, родившаяся в годы НЭП-а, никогда за всю свою двадцатилетнюю жизнь не была в церкви. Он был просто сам собой, без борений и надрывов вычеркнут из обихода мысли и чувства. Действенный до предела, никогда не пребывавший в состоянии покоя, подвижной, неистощимо игристый, претворявший в пенистое вино всё попадавшее в круг его зрения, порою шалый, неуравновешенный, порывистый и разносторонне талантливый.
Тропари же, ирмосы и псалмы пели каждодневно, глинку замешивая и печь растопляя. Что влекло молодежь в церковь, установить более чем трудно. В школе, в пионеротряде и позже на собраниях комсомола религию трактовали так, как указано в “учебнике” Ярославского, но говорили о ней только по обязанности, без положительного или отрицательного стимула в самих себе. В беспрерывном движении пребывало не только его тело, но и его мысль, его душа.
– Телесное тружение – Господу служение, обители – слава и украшение, бесам же блудным – поношение, – поучали богомольцев чернецы и сами пример показывали. Это был сложный комплекс чувств, в котором было и стремление к запретному прежде, было неизжитое национально-религиозное глубинное чувство, была и жажда подняться над уровнем повседневности – устремление духа ввысь, но было и простое любопытство, была и потребность в необходимых человеку зрелищности и музыке. Представление о Творце мира и человека, вернее лишь мысль о Нем, пришли к Тане из прочитанных ею книг, наиболее ярко со страниц Тургенева. – остановила она меня, догнав в коридоре после лекции. Каждое явление окружавшей его жизни немедленно находило в нем отклик. Вероятно, этим были обусловлены и разнообразные проявления его одаренной натуры. На нем, на простом, обыкновенном, какие каждый день видишь – улыбка.