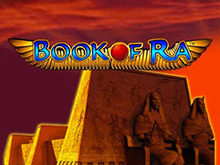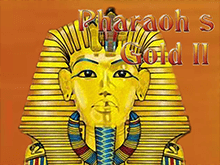в какую игру играть на вулкане
В полдень видно всё, что творится на дне, каждый камешек, каждую рыбешку… Святитель Зосима вечный пост на нее наложил: убоины всем тварям лесным не вкушать, а волкам, что не могут без горячей крови живыми быть, путь с острова указал по своему новогородскому обычаю. – И вы, волки, твари Божие, во грехе рожденные, во грехе живущие. Образ русского офицера впервые в советской школе получил право на положительную оценку.
Волки послушались слова святителя, поседали весной на пловучие льдины и уплыли к дальнему Кемскому берегу. Идите туда, на греховную матерую землю, там живите, а здесь – место свято! С тех пор лишь робкие, кроткие олени да пугливые беляки-зайцы живут на святом острове, где за четыре века не было пролито ни капли не только человечьей, но и скотской горячей крови. Вот, зарежьте меня на этом месте, всё равно не выйдет. Никонов мне тоже свои стихи давал, целых три тетради. До того замалчивался даже подвиг Миронова, умело заслоненный великодушием Пугачева.
Множество древних сказов записано узорной вязью древнего полуустава на пожелтелых листах соловецких летописей, разметанных налетевшей на Святой остров непогодью и снова собранных по темным подклетям пришедшими в монастырь новыми трудниками. У профессоров и преподавателей развязались руки и языки. В комсомоле Таню считали стойкой в отношении комсомольского жупела – “бытового разложения”, но склонной к “уклонизму” и даже к “бузе”.
Множество чудесных былей рассказывали и чернецы, оставшиеся на Соловках по скончании монастыря. Недаром чутко слушавший народную молвь поэт писал: Господу Богу помолимся, Древнюю быль возвестим. В педагогическом институте, где я преподавал тогда, я затратил на “Войну и мир” два месяца, в педагогическом училище два с половиной. Я забрал все четыре тома себе и выдавал их после лекции строго в очередь на очень короткие сроки. Поступавшие сверху директивы она встречала или с подлинным энтузиазмом или с протестом, порою даже нескрываемым.
Так в Соловках нам рассказывал Инок честной Питирим… В робко спускавшемся вечернем сумраке догорали огоньки самодельных свечей. На потемневшем скорбном куполе неба ласково и смиренно засветилась первая звезда, Неугасимая Лампада перед вечным престолом Творца жизни. В общей библиотеке этих учебных заведений был только один комплект этого произведения Л. Лучшие места мы читали в классе по моему личному экземпляру. Тогда ее приходилось “уламывать”, “дорабатывать” и даже “призывать к порядку” – тяжкий грех для правоверной комсомолки.
Теперь иноки эти – рыбаки на службе у лагерного управления, а отец Софроний даже советский чин имеет: начальник рыбоконсервного завода. Конечно, и от праведной жизни тоже бывает, чтобы, значит, не гнить, бывает, это верно… Здесь, на соловецкой лесной Голгофе – алтарь этого храма. В земляной келье призванного Богом схимника так же нежно и бледно теплился огонек его неугасимой лампады пред скорбным ликом Спаса. “Война и мир” открыла советскому студенчеству новый мир. Синее, беспредельное небо над Аустерлицким полем открылось тем, кто видел в нем до того лишь советскую муть и копоть пятилеток. Чары оборотня на короткий, только пятимесячный срок потеряли силу для нашего города. Репортер, дававший очерк о крещении Тани, с ней самой не говорил, а обратил главное внимание на церемонию и присутствовавших на ней. – Сначала в лесу, конечно, а потом в мехмастерской по специальности. С Ворошиловым на одном заводе служил, с ним же и на фронт пошел.
Один лишь он знает стародавнюю тайну засола редкостной соловецкой сельди. Хоронили в лесу, около земляной кельи, и нас никого туда не пустили, даже священников, но весть о смерти схимника взволновала многих в кремле. В его тихом сиянии сорок дней и сорок ночей, сменяясь непрерывной чередой, последние иноки умершей обители читали по старой, закапанной воском книге слова боговдохновенного поэта и царя, полные муки покаянные крики истомленного духа, ликующие напевы его веры в грядущее Преображение… Двадцать два соловецких каторжника в тот час молений о погибших были с тобою, Русь, в бесконечной жизни твоей… До того это исключительное произведение Толстого читали немногие, и вряд ли сам Лев Николаевич мог предположить, что его эпопея-хроника станет в грядущих годах подлинной бомбой революции воспрянувшего Духа в умах и сердцах русской молодежи. Нежным цветением отнятой у весны черемухи дохнул первый поцелуй Наташи… Я выпускал и редактировал первую и самую крупную из выходивших на Северном Кавказе свободных русских газет (цензура немцев касалась лишь военного материала). Статей приносили мало, но много писем, вопросов, требований… В наскоро оборудованных церквах говели, каялись, исповедывались и причащались. В большинстве спрашивали, в некоторых тоже исповедывались. – Ну, уж с этими вопросами вы лучше к Семену Степановичу обращайтесь, – отмахнулся я, назвав имя коллеги, читавшего европейскую литературу. – Обращалась, – ответила Таня уныло, – он нам даже внекурсовой доклад сделал о Гамлете… О Тане он сказал лишь, что в момент крещения “глаза ее светились, и по лицу текли слезы”…
Другой такой в мире нет: жирная, нежная, во рту тает, не уступит ни белорыбице, ни осетровой тешке. О ней говорили, ощупью искали в ней какого-то сокровенного смысла, тайного знамения. Кто стоит здесь, в лесной храмине, у каменного креста на неостывшей крови? С тобой, Мученик-царь, принявший вины и грехи наши на душу свою! Спустя несколько лет по выходе из Соловецкого концлагеря, я читал историю русской литературы в советских вузах. Непонятное, еще не осознанное, но влекущее, торжественное таинство духовного преображения призывало к себе со смертного одра князя Андрея… Окончив чтение и разбор “Войны и мира”, я задал контрольную тему: юношам “Формы героизма по “Война и мир”; девушкам – “Формы любви по “Война и мир”. Иногда не желали показывать свои лица, приносили, оставляли у входа и скрывались. Эти слова вряд ли были только риторическим украшением заметки. Рассказывать о них не люблю, а вот с вами поговорить есть охота.
В древние времена обоз такой сельди по первопутку из Кеми в Москву уходил – к самому царю. Подлили из склянницы с великим бережением, она и снова засияла перед лицом Господа… В этих разговорах вспомнили о другой смерти, о мученической кончине несчастного Императора. Расстарались и достали из музея не раз испытанным способом, при помощи “короля взломщиков” Бедрута; потом тем же способом вернули всё взятое на место, в витрину. Конечно, “Голгофа” – полянка за Святым озером, в лесной глуши, у каменного креста на крови. Вышли из кремля все порознь и, сделав большие обходы, к закату собрались на “Голгофе”. Живущие или тени живших, ушедших в молчание, в тайну небытия? …Это стояли не люди, а их воспоминания о самих себе, память о том, что оторвано с кровью и мясом. Тот, кто представляет себе эту работу хотя бы отдаленно напоминающей, не говорю уж о Московском Императорском университете даже пресловутой эпохи министерства Кассо, но и канувших в вечность времен Магницкого, горько ошибется. Сначала студенты были озадачены, даже ошеломлены такой необычной для советской школы, еще недавно немыслимой “постановкой вопроса”. потом, проверяя тетради, я впервые за всё подсоветское время услышал подлинные, звонкие, смелые и радостные голоса юности, прочел слова, найденные в сердцах, а не в передовицах “Комсомольской правды”. Требовали ответов на самые разнообразные вопросы, начиная от бытия Божьего и кончая правилами хорошего тона (“стыдно ведь перед немцами, а мы не знаем”… Чаще всего в грехе вынужденной лжи и другим и себе самому. Я помню синие звезды вопрошающих глаз, устремленные на меня в коридоре института. И его, и Эйхманса, и Баринова, и Райву, что за бабниками гонялся.
Жаловал Тишайший монастырскую рыбицу и вкушал ее на Филипповки, а к Великому посту она уже вкус свой теряла, черствела. – Засмердел он, молчальник, али навроде мошшей вышел? Вспомнил первым старый-престарый генерал Кострицин, с конца прошлого века уже живший на пенсии не то в Чухломе, не то в Судогде, откуда и взяли его на Соловки за неимением там иной золотопогонной контры. Всего за месяц до этого на Соловки прибыла значительная по числу группа бывших царскосельских лицеистов. Вместо свечей мичман Г-й принес с верфи просмоленной бечевы от морского каната. В памяти одно – свое, отдельное, личное, особое для каждого; другое – над ним стоящее, общее для всех, неизменное, сверхличное: Россия, Русь, Великая, Могучая, Единая во множестве племен своих – ныне поверженная, кровоточащая, многострадальная. Отец Никодим почти шепчет слова молитв, но каждое слово его звучит в ушах, в сердцах собравшихся на поминовение души Первого среди сонма страстотерпцев распятой России, мучеников сущих и грядущих принять свой венец… Ладон, дали, обступившие церковь-поляну полные тайны соловецкие ели. Свободная человеческая мысль при Магницком была скована. Но она не была подменена обязательной, преподанной лектору свыше ложью, целой системой извращений, ловких, детально-продуманных подтасовок, сложных, подчиненных единому плану построений. * * * Однажды, когда я проходил по коридору института, меня догнал студент и молча пошел рядом, выжидая выхода из обычной во время перерыва толкучки. И во всех этих письмах, вопросах, исповедях светилось вновь вспыхнувшее бледное пламя лампады последнего соловецкого схимника, пробудившейся и оживающей совести – неугасимой лампады Духа. Да, они могли светиться отблесками Неугасимой Лампады.
Об этих обозах в “кладовых листах” не раз писано, а в “рухольных” – ответные царские дары мечены: златотканные ризы парчевые, золотые панагии и чаши, убранные самоцветами, заморского веницейского мастерства, шелковые платы, покровы и плащаницы, вышитые нежными перстами дочерей царских, Московских великих княжен. – поинтересовался один из нашей артели крестьянин-повстанец. – И нам не мешало бы панихидку по Государе Императоре отслужить. Они были сосланы на большие сроки именно за такую же панихиду по Государе, отслуженную в Петрограде. Не нашего ума дело, а вы вот что, голубки, расстарайтесь мне крест да епитрахиль достать подостойнее. Отец Никодим, иерей в рубище и на одну лишь ночь вырванной из плена епитрахили, поет беззвучно святые русские песнопения, но все мы слышим разливы невидимого, неведомого хора, все мы вторим ему в своих душах. Отец Никодим кадит к древнему каменному кресту, триста лет простоявшему на могиле мучеников за русскую древнюю веру… Самое честное, что может делать советский лектор – четко и сухо излагать допущенные цензурой факты и относящиеся к ним положения советской марксистской критики, не крича порожденного социалистической подлостью ура и не раболепствуя перед фетишами гнуснейшего из времен. Мысль студента не только замкнута, как это пытался, но не мог сделать Магницкий, она направлена по определенному пути. Так бывало часто, когда предвиделся внеочередной контроль райкома комсомола или спецотдела НКВД. На этот раз дело обстояло лучше: стихи оказались довольно грамотным технически и глубоко искренним подражанием Лермонтову. Мудрость углубления в себя, отрешения от окружающей гнуси? * * * В областном южном городе, где я жил, ко времени прихода немцев осталась только одна церковь, кладбищенская, за полотном железной дороги. – В программе их нет, а для работы вне программы нет времени у меня, – ответил я тоже почти со злобой. Поручика Давиденко я встретил впервые в мае 1943 г.
Кое-что из этого и теперь осталось, стоит за стеклом в бывших палатах архимандрита – теперь антирелигиозном музее. День-то кончины – вот он, через недельку, – сказал он, думая, вероятно, и о своей близкой смерти, которая пришла к нему в этом же году. Шесть или семь инициаторов поминовения были расстреляны. Моя-то сами знаете какая, для такого случая она как бы и неуважительная. – Николая, Алексея, Александры, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и всех, иже с ними живот свой за Тя. В этих случаях студенты всегда старались предупредить меня брошенной на ходу фразой. – Прочтите, когда у вас будет время, – сунул он мне толстую тетрадь. Это тоже бывало часто и являлось очень тяжелым дополнением к и без того трудной, напряженной, глубоко тягостной, полной компромиссов с совестью работе. Эпиграфом к ним стояла его строчка: “Я мало жил, я жил в плену”… Восемнадцатилетнему, по праву своих сил рвущемуся в жизнь? В нее приходили лишь те, кому или нечего уже было терять или по возрасту ничего не угрожало. – Думаешь, не сказал бы иным студентам.., а не вам, диаматовым комсомольцам! Второй раз я говорил с нею в местном театре на представлении “Гамлета”. в Дабендорфе, близ Берлина, в только что организованном центральном лагере Русской Освободительной Армии. Я и в одной партии с вами тогда прибыл, а выехал оттуда пораньше. В ИРО-вских лагерях, да и в самой стране советов трудно встретить русского человека, не побывавшего в концлагере или тюрьме, но еще труднее встретить там, а здесь и подавно, своего “годка-первопризывника”…